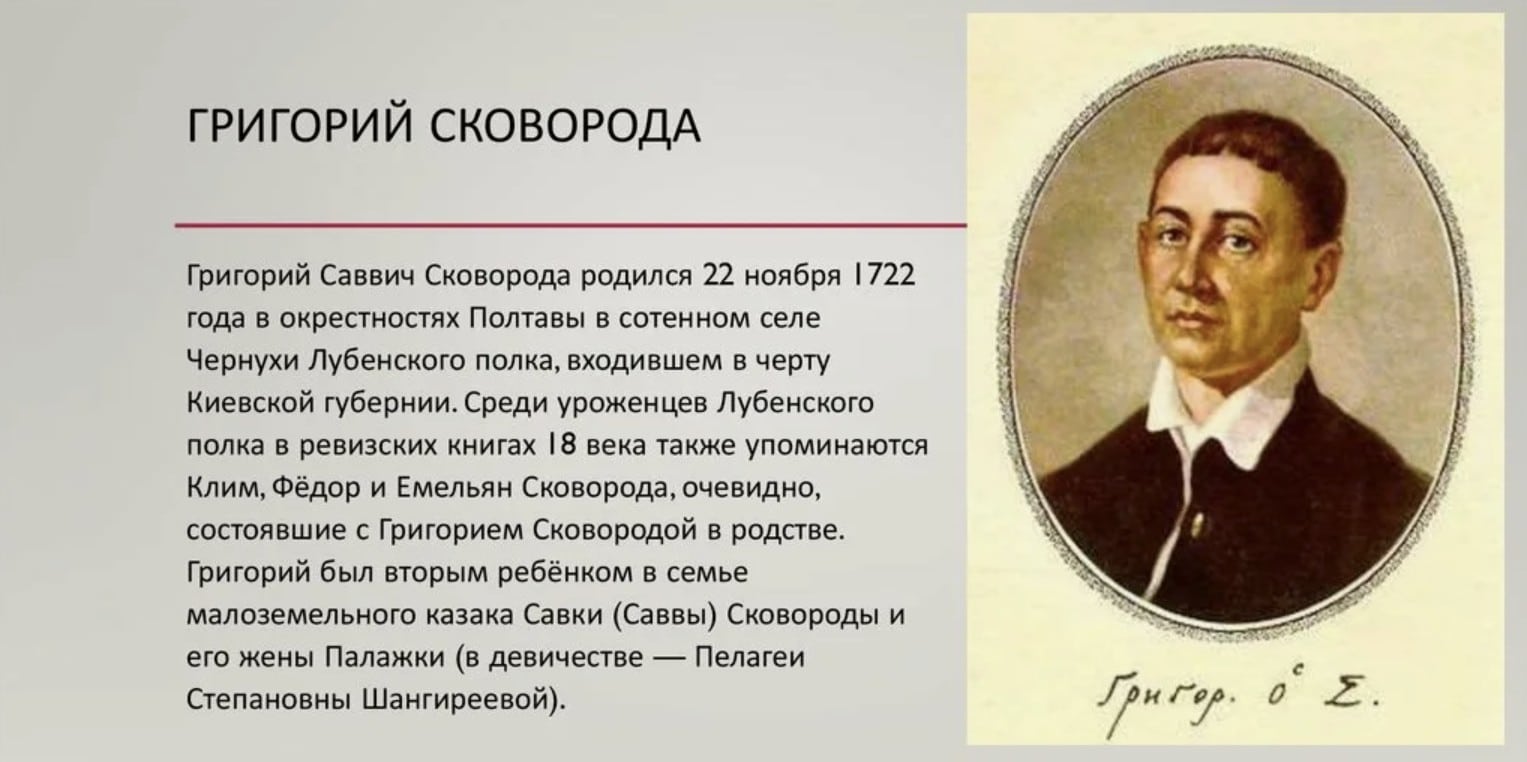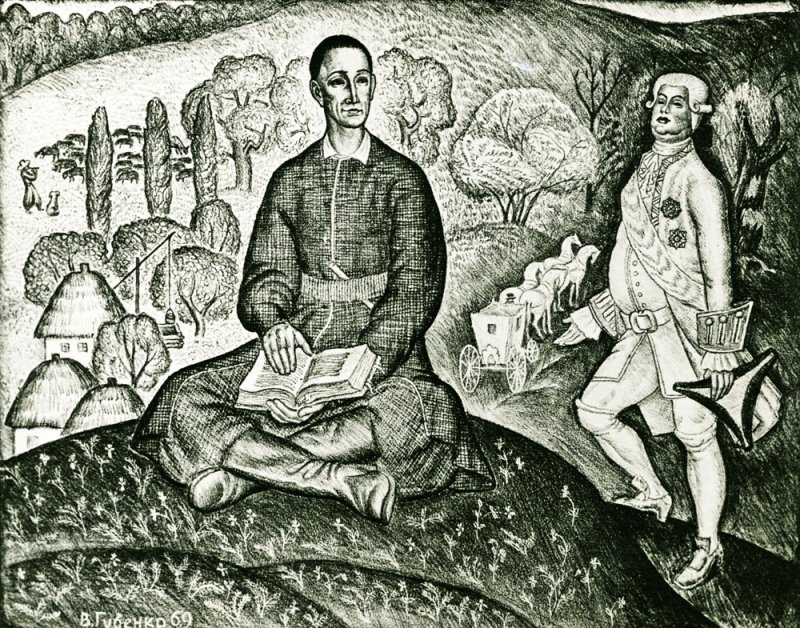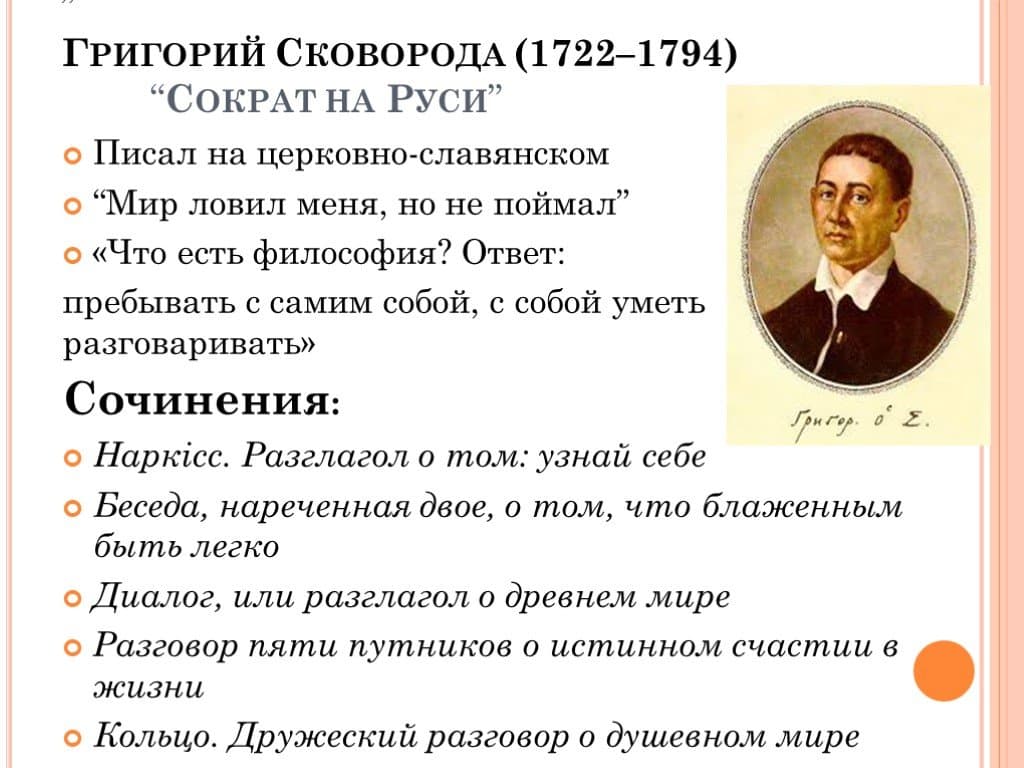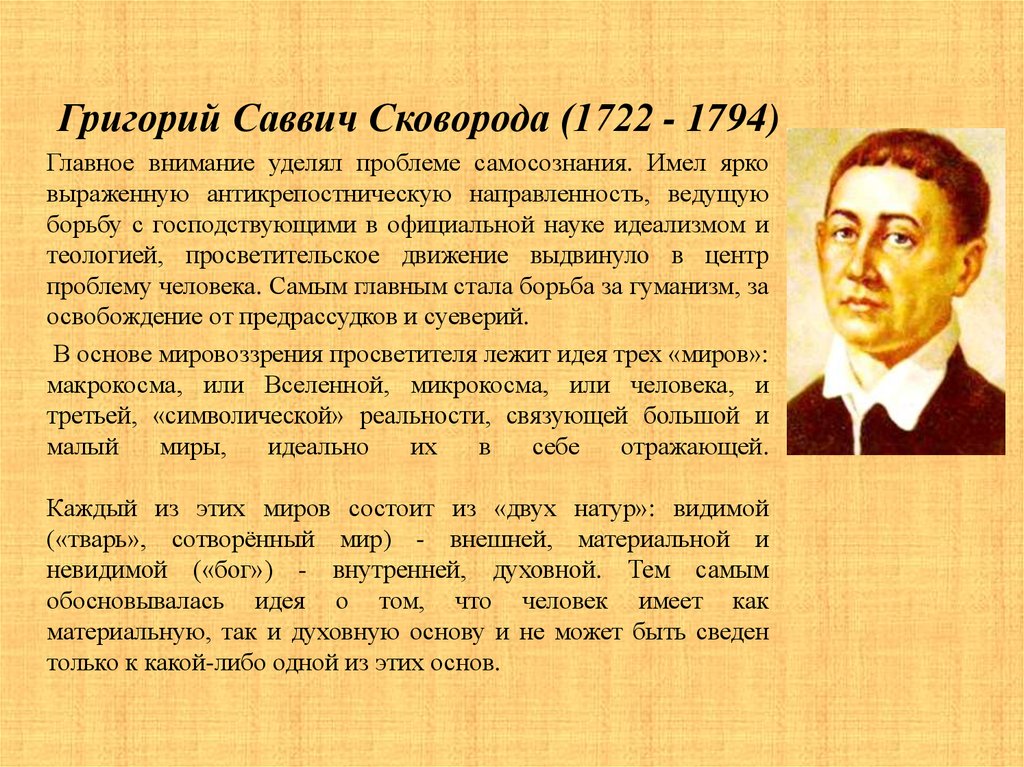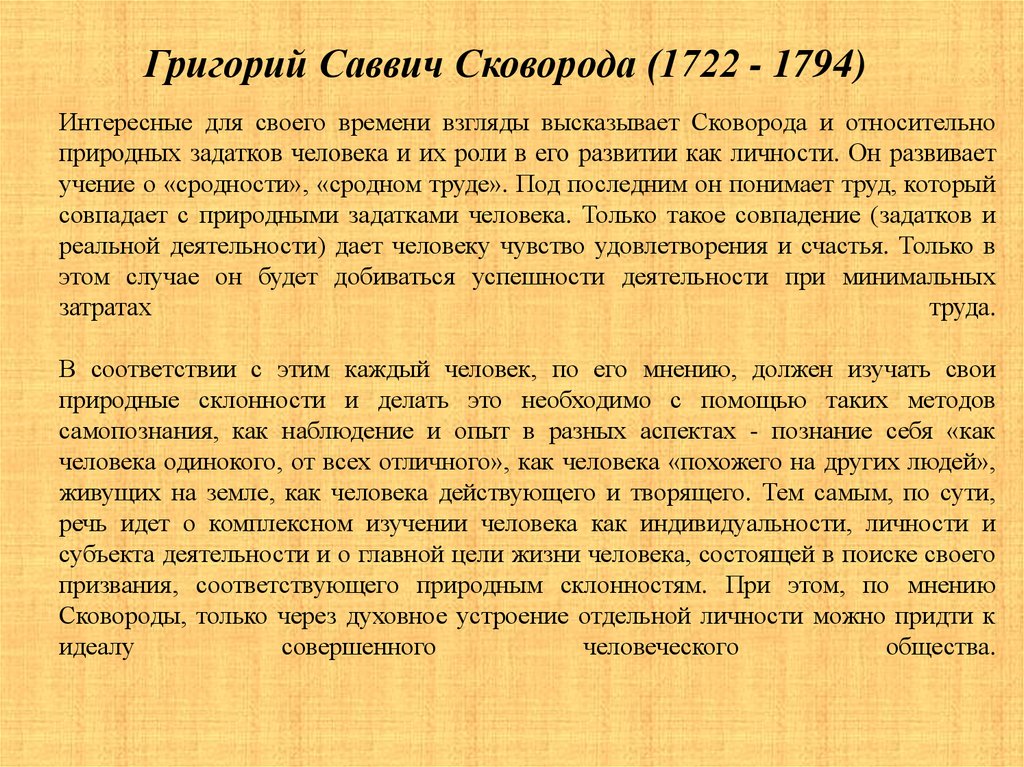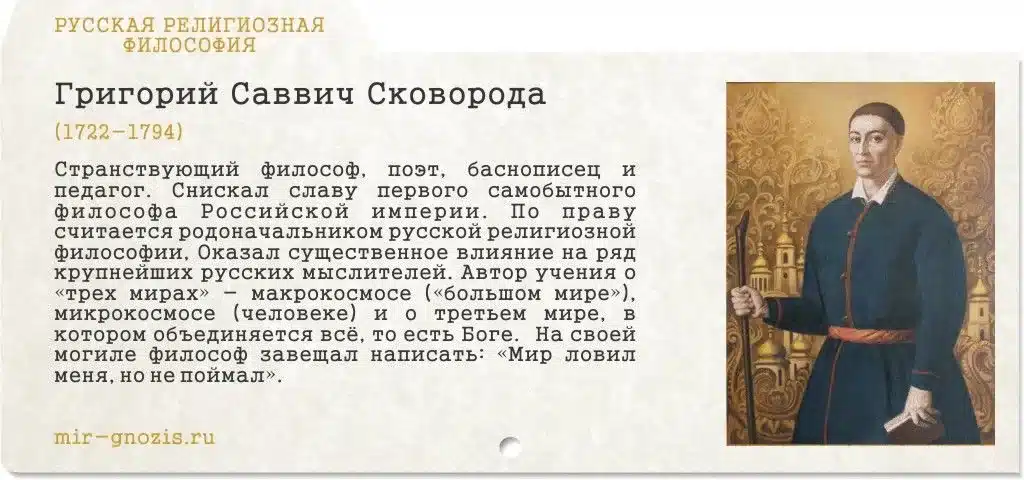Григорий Сковорода — биография
Григорий Саввич Сковорода — украинско-русский мыслитель, философ и поэт XVIII века, один из наиболее самобытных представителей восточнославянской духовной традиции. Его происхождение связано как с малоземельным казачеством Левобережной Украины, так и с потомками крымскотатарской знати, вошедшими в состав казацкой старшины.
Происхождение и семья
Григорий Саввич Сковорода родился 22 ноября (3 декабря) 1722 года в сотенном селе Чернухи Лубенского полка, входившем в состав Киевской губернии (ныне Чернухинский район Полтавской области Украины). В ревизских книгах Лубенского полка XVIII века упоминаются также Клим, Фёдор и Емельян Сковорода, которых исследователи относят к одной с ним родственной линии. Григорий был вторым ребёнком в семье малоземельного казака Савки (Саввы) Сковороды и его жены Палажки, в девичестве Пелагеи Степановны Шангиреевой. Семья принадлежала к слою небогатых, но социально укоренённых казаков, для которых служба и участие в местном самоуправлении сочетались с мелким хозяйством и промыслом. Такое происхождение сближало будущего философа с тем кругом казачества, из которого выходили и духовенство, и низовое образованное сословие Гетманщины.
Мать философа происходила из рода Шан-Гиреев и была дочерью Степана Шан-Гирея, потомка крещёного крымского татарина, который служил казаком в Каневском полку. Брат деда философа, Фёдор Шан-Гирей, стал священником в Чернигове, со временем обзавёлся значительным имением и обращался с прошением о внесении в дворянское сословие. Род Шан-Гиреев был тесно связан с полковым руководством: в 1650 году наказным полковником Каневского полка значится Иван Шан-Гирей. По данным генеалогических исследований, предки казаков Шан-Гиреев ранее занимали высокое положение в элите Крымского ханства, а затем, приняв православие и войдя в казацкую среду, закрепились в структуре войсковых полков Речи Посполитой и Левобережной Украины.
Крымскотатарская линия рода привела исследователей к фигуре Шан Шагин-Гирея, которого признают предполагаемым родственником предков Пелагеи Степановны. Шан Шагин-Гирей был младшим братом хана Мухаммада-Гирея III, правившего Крымским ханством несколько лет в первой четверти XVII века. Отец этих братьев служил астраханским наместником при Иване Грозном, что отражает сложные связи Москвы и Крыма в позднесредневековый период. Мухаммад-Гирей III пришёл к власти, устранив хана Джанбег-Гирея, однако тот сумел вернуть благосклонность Османской империи, отличившись в персидской и польской войнах, и через Стамбул добился восстановления влияния.
Отказавшись уступить власть, Мухаммад-Гирей III поднял восстание против османского сюзерена и призвал на помощь запорожских казаков, к нему присоединился и Шан Шагин-Гирей. После ряда временных успехов в 1625 году хан потерпел поражение от турецких сил и был вынужден бежать с родственниками к запорожцам, а в 1629 году погиб при одном из набегов. Шан Шагин-Гирей, опасаясь османской расправы, оказался в казацкой среде и принял православие, что положило начало «запорожской ветви» его потомков, связанных с Корсунским и Каневским полками. Именно эта линия, по реконструкциям родословных, привела к роду Шан-Гиреев, к которому относилась мать Сковороды. В русской литературе воинственный образ дома Гиреев получил отражение в поэме Александра Сергеевича Пушкина «Бахчисарайский фонтан».
Через род Шан-Гиреев Сковорода был опосредованно связан с Михаилом Юрьевичем Лермонтовым и его первым биографом Акимом Шан-Гиреем, приходившимися родственниками по материнской линии этой ветви. Эти связи показывают, как потомки крымскотатарской знати, перешедшие в христианство и интегрированные в казацкую и дворянскую среду, в течение нескольких поколений вошли в культурную элиту Российской империи. Для биографии Сковороды эта линия важна тем, что объединяет в его происхождении традиции пограничного степного мира, казацкой вольницы и имперской службы.
Об отцовской линии Григория Сковороды источники дают значительно меньше сведений. По данным Густава Гесса де Кальве, по отцу философ был связан с казацким духовенством, то есть с теми священниками, которые выходили из казачьей среды и обслуживали приходские общины Левобережья. Отец философа, Савва Сковорода, занимался винокуренным промыслом, что было типичным дополнительным занятием для сельских жителей и приносило семье доход. Исследователи предполагают, что Григорий родился на хуторе Харсики, относившемся к Чернухам: в XX веке здесь продолжали жить носители фамилий Сковорода, Сковородько и Сковороденко, а в XVIII веке в Харсиках находился земельный участок, предоставлявшийся представителям духовного звания.
Согласно свидетельству Гесса де Кальве, Савва Сковорода мог быть сельским священником в Чернухах, что согласуется с наличием в Харсиках церковных земель и укрепляет версию о духовном статусе семейства. Такое сочетание казачьего происхождения, мелкого хозяйства и связей с приходским духовенством было характерно для среды, из которой выходили многие учащиеся Киевской духовной академии. Оно объясняет, почему путь Сковороды вёл не только через казачью службу, но и через духовное образование.
К духовенству относился и двоюродный брат философа Иустин Зверяка (в миру Иван Зверяка, 1717–1790), игумен Синянского монастыря в селе Писаревка Золочевского уезда Харьковского наместничества. Зверяка был хорошо образован, работал в типографии Киево-Печерской лавры, которая в XVIII веке была одним из главных центров православного книгопечатания. Из переписки Сковороды известно, что Зверяка знакомился с его сочинением «Жена Лотова», но не оценил его замысел и стиль. Сам Сковорода с иронией писал, что «брат мой не мог чувствовать вкуса в Жене моей Лотовой», фиксируя тем самым расхождение во взглядах внутри родственного круга духовных лиц.
Ранние годы и образование
О детстве и юности Григория Сковороды достоверных свидетельств немного, значительная часть сведений носит реконструктивный характер. По исследованиям Л. В. Ушкалова, около семи лет его могли отдать в четырёхклассную дьяковскую школу, действовавшую при местном приходе в Чернухах. Такие школы обеспечивали начальное обучение грамоте, церковнославянскому языку и основам богослужебного чтения, формируя базу для дальнейшего духовного или канцелярского служения. В народной традиции возникла легенда, объяснявшая стремление юного казачьего сына к учёности: согласно ей, шестнадцатилетний Григорий покинул родительский дом после наказания за потерянную в поле овцу. Эта легенда иллюстрирует мотив конфликта между бытовой крестьянско-казачьей жизнью и тягой к образованию, хотя её фактическая надёжность сомнительна.
Современные исследователи считают более вероятной другую версию, увязывающую отъезд сыновей с изменением экономического положения малоземельного казачества. Предполагается, что Савва Сковорода сознательно отправил обоих сыновей — Степана и Григория — учиться, понимая ограниченность хозяйственных перспектив в Чернухах. Старший сын Степан уехал в столицу ещё при жизни отца, а Григорий, вероятно, покинул родной дом уже после его смерти. Для казачьих семей того времени направление детей в духовные школы или к состоятельным родственникам в крупные города было способом социального продвижения, позволяющим выйти в клирикальное, канцелярское или военное сословие империи.
К моменту появления Григория в Санкт-Петербурге и Москве у семейства Сковород-Шан-Гиреев уже были родственные связи в этих центрах. Степан Сковорода проводил много времени в Санкт-Петербурге, где пользовался покровительством родни. В 1738 году он отправился «искать счастья» в столице, рассчитывая на помощь семьи Полтавцевых. Игнатий Кириллович Полтавцев, дядя по линии Шангиреевых и двоюродный брат будущего философа, был крупным вельможей и землевладельцем в чине полковника Русской императорской армии. При императрице Елизавете Петровне он занимал должность камер-фурьера двора и владел значительными пожалованными владениями в Коломенском, Керенском и Шацком уездах, насчитывавшими сотни крепостных душ.
Дом Полтавцева служил опорным пунктом для сыновей Саввы Сковороды в столице и был для них открытым. Историк Д. И. Чижевский выдвинул гипотезу, что именно влияние и протекция Игнатия Полтавцева позволили Григорию Сковороде попасть в число придворных певчих в Санкт-Петербурге, а Степану — получить начальное образование в Польше. Таким образом, родственные связи Шан-Гиреев и Полтавцевых обеспечили выход молодого Сковороды из провинциальной казацкой среды в окружение столичного двора и высшего духовного образования. Это сочетание провинциальных корней и столичных возможностей во многом предопределило дальнейший путь философа.
Традиционно считается, что с осени 1738 года по лето 1741 года Григорий Сковорода учился в Киевской духовной академии, однако в списках учащихся его имя не сохранилось. Первый период его обучения в Академии попытался реконструировать в 1902 году Н. И. Петров, опираясь на сведения о Самуиле Миславском и на копию латинского трактата «Об исхождении Св. Духа» Адама Зерникава, переписанного для Тимофея Щербацкого тридцатью пятью студентами, среди которых значился Сковорода. Позднее Л. Е. Махновец критически пересмотрел реконструкцию Петрова, указав на неточности в датировках «первого малороссийского периода» и отметив, что его схема была механически воспринята и развита Д. И. Багалеем. Согласно архивной гипотезе Махновца, Сковорода проходил обучение в Академии тремя периодами: с 1734 по 1741 годы, с 1744 по 1745 годы и с 1751 по 1753 годы.
При таком подходе получается, что Григорий поступил в Киевскую академию около двенадцатилетнего возраста и мог застать там юного Михаила Васильевича Ломоносова, что подчёркивает пересечение траекторий двух будущих представителей российской и украинской культуры. Большинство современных исследователей склоняется к схеме Махновца, но подчёркивает, что вопросов о точных датах первых лет обучения Сковороды больше, чем надёжных ответов. Периодизация его киевского этапа остаётся предметом научной дискуссии, поскольку источники носят фрагментарный характер. Тем не менее общий контур биографии ясно показывает: именно Академия дала Сковороде фундаментальное богословское и философское образование, отличавшее его от большинства современников из казачьей среды.
По реконструкции Л. В. Ушкалова, в 1735–1738 годах Сковорода проходил грамматические классы в Академии, где изучал латинский язык, прозу и поэзию античных и позднеантичных авторов. После этого следовали курсы поэтики и риторики, формировавшие навык работы с текстом, аргументацией и публичной речью. В 1739–1740 годах Сковорода занимался греческим, немецким и еврейским языками под руководством Симона Тодорского, одного из наиболее образованных преподавателей Академии того времени. Завершающим этапом должна была стать двухлетняя программа философии, включавшая диалектику, логику, этику, физику и метафизику, которую Сковорода проходил под руководством префекта Михаила Козачинского. Структура этого образования объясняет широту языковой и философской подготовки Сковороды, проявившейся в его дальнейших трудах.
Философские основы
Образцом для богословия Сковорода считал александрийскую школу раннехристианской мысли, где соединялись библейская экзегетика, платонизм и аллегорическое толкование Писания. В числе особо чтимых авторов он выделял римских стоиков, прежде всего Сенеки и Марка Аврелия, чьи рассуждения о внутренней свободе и самообладании были для него важным этическим ориентиром. На формирование его взглядов заметно повлияли идеи платонизма и стоицизма, воспринятые через античную литературу, отцов Церкви и духовную традицию Киевской академии. Исследователи отмечают, что в системе Сковороды сосуществуют элементы мистики и рационального рассуждения: символическое толкование Писания сочетается у него с логически построенными рассуждениями о природе человека и мира.
Ряд авторов сближает философию Сковороды с пантеизмом, поскольку он, подобно Бенедикту Спинозе, склонен отождествлять Бога как «Высочайшее Существо» с «всеобщей матi нашею натурою». Под «натурой» он понимает природу или естество мира в целом, которое безначально и может быть символически представлено в образе змея, «в коло свитого, свой хвост своими ж держащего зубами». Этот змей как символ бесконечного, самотождественного бытия у Сковороды совпадает с образом Бога: «змій есть, знай же, что он же и Бог есть». Природа порождает «охоту» — внутреннее стремление, влечение и движение, а «охота» вырастает в труд, то есть в реальное делание, через которое осуществляется человеческая жизнь. При этом к язычеству Сковорода относился терпимо, рассматривая его как подготовительный этап к принятию христианства: языческие капища для него — те же «храмы Христова учения и школы». В религии он предлагал «средний путь» между «курганами буйного безбожия» и «подлыми болотами рабострастного суеверия», выступая против как внешнего формализма, так и грубого отрицания веры.
Три мира и две натуры
Картина мироздания у Сковороды построена вокруг учения о трёх мирах. Первый — «всеобщий мир обитательный», или макрокосм, то есть вселенная, «великий мир», состоящий из бесчисленных «мир-миров». Второй мир — микрокосм, «мирик, мирок», человек как малый мир, в котором отражается структура большого. Третий — «символический мир», которым Сковорода называет Библию и вообще священные тексты, а также всю сферу символов, связывающую макрокосм и микрокосм. Через этот «символический мир» человек получает доступ к невидимому измерению бытия: язык Писания и образов служит посредником между видимым миром и Божественной реальностью.
Каждый из трёх миров, по его мысли, имеет «два естества»: видимое (тварное) и невидимое (Божественное), материю и форму, «плоть и дух». Сковорода развивает учение о двух вечных «натурах» — чувственно воспринимаемой, изменчивой, и невидимой, божественной, которая есть «безначальное единоначало». Задача человека состоит в том, чтобы сквозь видимую, чувственную «натуру» прозреть невидимую, восходя от явлений к их внутреннему основанию, которое он описывает в категориях «премудрости» и «софийной основы» мира. Люди, не знающие о существовании невидимой натуры, по его словам, легко увлекаются кажимостью и теряют связь с Богом. В диалоге «Наркисс» Сковорода формулирует близкую идею в образах двух сердец: внешнего, «плотского», «пепельного», связанного с мирскими страстями, и внутреннего, в котором через «испытания» раскрывается образ Божий и осуществляется подлинное «познание самого себя». А. Ф. Лосев, анализируя философию Сковороды, выделял именно учение о «сердце», мистический символизм трёх миров и представление о двух началах мира как наиболее оригинальные черты его системы.
Человек и самопознание
Центральной темой философии Сковороды является проблема человека. Отталкиваясь от античной формулы Протагора о человеке как «мере всех вещей», он приходит к выводу, что человек выступает началом и концом всякого философствования. При этом речь идёт не о эмпирическом, физическом человеке, а о человеке внутреннем, «вечном, бессмертном и Божественном». Внешний, психофизический человек подвержен изменениям, страстям и суете; внутренний человек связан с божественной натурой и составляет подлинный центр личности. Философия для Сковороды превращается в искусство обращения к этому внутреннему человеку и раскрытия его в собственной жизни.
Путь к внутреннему человеку, по его мысли, труден и сопряжён со «страданиями и борениями». Он предполагает отстранение ума от внешней суеты, от чисто эмпирического познания, фиксирующего лишь поверхностный слой реальности. На место внешнего знания должен встать мир образов и символов, «сродных» внутренней жизни и вечному смыслу бытия. Такой символический язык Сковорода находит прежде всего в Священном Писании, которое рассматривает как поле «следов Бога». Человеческая мысль, следуя по этим «следам», «превращается в око Бога Всевышнего» и приходит к самопознанию, где «истинный человек и Бог есть тожде». По духу этот опыт самопознания близок традиции рейнской мистики (Майстер Экхарт, Дитрих из Фрайберга и др.) и немецкой теософии эпохи Реформации (Якоб Бёме, Ангел Силезский и др.), проникшей в русскую среду в XVII веке через Немецкую слободу и получившей одно из первых оригинальных воплощений на православной почве в кругу Дмитрия Тверитинова.
Учение о сродности
Особое место в системе Сковороды занимает учение о «сродности», то есть о внутреннем соответствии человека его делу. Каждому человеку, по его мысли, дана своя «сродность» или «стать» — природное расположение к определённому виду труда: медицине, живописи, архитектуре, хлебопашеству, воинской службе, богословию и другим занятиям. Общество, в котором люди нашли свой «сродный труд», он сравнивает с «плодоносным садом» и с часовой машиной, где каждое колесико занимает своё место и действует в согласии с общим механизмом. Несродный труд рождает внутренний разлад, разрушает человека изнутри и делает тщетными его усилия.
Учение о сродности переосмысливает ряд античных мотивов в христианском ключе. В нём слышатся отголоски идеи Протагора о человеке как мере всех вещей, платоновского восхождения к прекрасному через «эрос» и стоического призыва жить «согласно природе». У Сковороды эти мотивы обретают форму нравственно-религиозного учения о том, что подлинная свобода и радость возможны лишь в согласии с собственной природой и с божественной «натурой» мира. Позднее эта концепция оказала влияние на мыслителей славянофильского круга, которые обращались к идее «сродного труда» как к условию гармоничного общественного устройства.
Поиск премудрости
Тема поиска истины и божественной Премудрости (Софии) получает у Сковороды оригинальное художественно-философское выражение в поэтическом произведении «Разговор о премудрости». Исходным мотивом служит обращение человека к Софии с вопросами о нравах и воззрениях китайцев, то есть о «чужой мудрости». София отвечает, что подобные расспросы бесполезны и являются пустым любопытством. В ответ человек уличает Софию во лжи и начинает подозревать, что перед ним не истинная Премудрость, а её карикатурная «сестра-бестолковщина».
Строя диалог таким образом, Сковорода оставляет читателя в ситуации неопределённости: остаётся неясным, действительно ли в разговоре присутствует София-Премудрость или же её «образ» вводит в заблуждение. Через эту недосказанность он показывает ускользающую, неуловимую природу безначальной истины, которую нельзя свести к набору готовых сведений о мире. Поиск Премудрости неизбежно оказывается одновременно и поиском самого себя, внутреннего человека. «Разговор о премудрости» рассматривается исследователями как важное звено в истории русской софиологии: впоследствии к теме Божественной Премудрости обращался Владимир Сергеевич Соловьёв, для которого опыт Сковороды стал одним из ранних источников разработки учения о Софии в поздней русской религиозной философии.
Странствующая жизнь
После разрыва с академической и штатной преподавательской карьерой Сковорода окончательно закрепился в образе странствующего философа-богослова. Он переходил из имения в имение и из села в село по Малороссии, Приазовью, слободским, Воронежской, Орловской и Курской губерниям, нигде надолго не задерживаясь. Такой способ существования соответствовал его представлению о внутренней свободе и независимости от церковно-административной иерархии. Известно также, что он бывал в Области Войска Донского, в Ростове, где навещал родственников своего ученика Михаила Коваленского — семью Коваленских. Эти маршруты формировали своеобразную «географию странствий» философа, позволявшую ему поддерживать сеть личных связей среди духовенства, дворянства и купечества южнорусских регионов.
Особое место в поздней биографии Сковороды занимали Харьков и слободские окрестности. В 1774 году в имении президента Малороссийской коллегии Евдокима Щербинина в селе Бабаи он завершил цикл «Басни харьковские», который посвятил станционному смотрителю города Острогожска Афанасию Панкову. Тот же Панков появляется в философских диалогах Сковороды под именем спорщика Афанасия, что позволяет проследить трансформацию реальных знакомых в литературные персонажи. Сын Афанасия, Иван Панков, входил в число студентов Харьковского коллегиума, слушавших лекции Сковороды, что свидетельствует о включённости семьи в его педагогический круг. В том же 1774 году философ жил у сотника Алексея Авксентьева в Лисках, поддерживая тесные отношения с его домочадцами.
Связи с семьёй Авксентьевых сохранялись у Сковороды и позднее, что отражено в его переписке. В письме из Бабаев 1786 года священнику Якову Правицкому он просил передать поклон «духовной матери» — игумении Марфе Авксентьевой, замечая при этом, что давно обленился писать ей. Марфа Авксентьева была связана с Вознесенским монастырём, располагавшимся примерно в пятнадцати вёрстах от Харькова, и относилась к тому типу женского монашества, с которым Сковорода поддерживал доверительные отношения. Харьковский период показывает, как философ одновременно вращался в среде казачьей старшины, духовенства и образованного купечества. Именно здесь складывался круг адресатов его трактатов, басен и диалогов, часто получивших посвящения конкретным лицам.
В Харькове у Сковороды было много друзей из купеческого сословия. В источниках выделяются Егор Урюпин, которого характеризуют как «правую руку» реформатора Василия Назарьевича Каразина, а также купцы Артём Карпов, Иван Ермолов, Степан Курдюмов и другие. Все они участвовали в организации Харьковского университета, что иллюстрирует тесную связь ранней университетской инициативы с местным торговым и промышленным слоем. О части харьковских знакомых философа из купцов — Рощине и Дубравине — известно лишь пофамильно, без подробностей биографии, но уже одно включение их имён в перечни друзей показывает широту его контактов. Кроме купцов, Сковорода находился в близких отношениях с харьковскими дворянами, прежде всего с вахмистром Ильёй Мечниковым, владевшим землями под Купянском, где философ неоднократно гостил.
Воспоминания Ильи Мечникова и его сына Евграфа, происходивших из той же семьи, которая дала миру учёных Илью Ильича и Льва Ильича Мечниковых, стали важным источником для биографии Сковороды. На этих материалах опирался Густав Гесс де Кальве, составивший одно из первых жизнеописаний философа. Сам Гесс де Кальве был связан с семьёй Мечниковых и Сковороды не только как биограф, но и как родственник по браку: он женился на дочери вахмистра, Серафиме. Таким образом, харьковский круг Сковороды соединял в себе купцов, дворян, художников и будущих биографов, что обеспечило сохранение подробных сведений о его жизни на этом этапе.
Воронеж и Приазовье
Много времени, особенно в 1770-е годы, Сковорода проводил в Воронежской губернии. Здесь располагалось имение помещиков Тевяшовых, где философ находил приют и возможность спокойно работать. Современный исследовательский пересказ свидетельствует, что в «гостеприимном острогожском доме» Тевяшовых странник «отогревался душой и телом», что хорошо характеризует атмосферу этого провинциального дворянского гнезда. В 1775 году Сковорода посвятил Владимиру Степановичу Тевяшову диалог «Кольцо», а затем и философский трактат «Алфавит, или Букварь мира». Посвящения помещикам выступали важным элементом социальной коммуникации: через них автор закреплял связи с меценатами и напоминал о значении морально-философских размышлений для дворянской среды.
В 1776 году в Острогожске Сковорода завершил сочинение «Икона Алкивиадская», адресовав его Степану Ивановичу Тевяшову, отцу Владимира. Тому же Тевяшову был посвящён выполненный философом перевод с латинского языка диалога Марка Туллия Цицерона «Cato maior de senectute» («О старости»), что показывает интерес Сковороды к античной традиции и поиску параллелей между римской и современной ему моральной мыслью. В Острогожске жил и его близкий друг художник Яков Иванович Долганский, выведенный в диалогах Сковороды под именем Якова; это свидетельствует о тесном взаимодействии философа с местным художественным кругом. Среди слободских художников особенно выделялся Семён Никифорович Дятлов, создавший акварельные иллюстрации к труду «Алфавит, или Букварь мира». Именно Дятлову Сковорода посвятил притчу «Благодарный Еродий», что подчеркивало роль художника как соавтора визуального образа его философских сочинений.
Сковорода продолжал бывать и в слободских местах, связанных с Воронежской губернией. В 1774 году он вновь жил у сотника Алексея Авксентьева, но уже в Лисках Воронежской губернии, что показывает устойчивость его привязанности к этому дому. Регулярные возвращения к одним и тем же покровителям и друзьям позволяют говорить не о хаотических скитаниях, а о продуманной сети опорных пунктов на его маршрутах. Эти города и сёла становились для философа площадками для чтения лекций, бесед с учениками и обсуждения рукописей. Взаимное доверие между странствующим богословом и провинциальным дворянско-купеческим обществом объясняет, почему многие его тексты сохранились именно в частных архивах.
Таганрог и донские связи
В 1781 году Сковорода отправился в Таганрог, расположенный на побережье Азовского моря, к Григорию Ивановичу Коваленскому. Коваленский был братом его ученика Михаила Коваленского, который в бытность студентом Харьковского коллегиума вместе с братом слушал курс Сковороды по катехизису. В Таганроге в это время жил также друг и ученик философа Алексей Базилевич, сокурсник Коваленских. Таким образом, поездка на юг сочетала в себе и дружеский визит, и продолжение педагогической линии в кругу бывших студентов. По свидетельству Густава Гесса де Кальве, пребывание Сковороды в Таганроге в целом продолжалось около года.
О его жизни в городе известно главным образом по переписке, которую он вёл, проживая в доме Григория Коваленского. Биограф сообщает, что Коваленский намеревался устроить в честь философа пышный приём с участием знатных вельмож, но Сковорода, узнав об этом, спрятался в телеге и не вошёл в дом, пока гости не разошлись, демонстрируя тем самым нежелание участвовать в светских демонстрациях. Достоверно установлено, что он останавливался в собственном доме Коваленского на улице Елизаветинской (позднее — улица Розы Люксембург). Историки Таганрога считают, что Сковорода не мог попасть в город, минуя имение Ряженое, которое Григорий Коваленский избрал местом постоянного жительства. Среди корреспондентов философа в этот период фигурирует харьковский купец Степан Никитич Курдюмов, чьи семейные архивы сохранили часть писем.
В последующие годы Сковорода продолжал активно работать над притчами и переводами, адресуя их друзьям и покровителям из слободско-харьковской среды. В 1787 году он завершил притчу «Благодарный Еродий», вновь посвятив её художнику Семёну Дятлову, а затем написал притчу «Убогий жаворонок», адресованную купянскому помещику Фёдору Ивановичу Диску. В 1790 году философ окончил перевод с греческого трактата Плутарха «Книжечка о спокойствии души» («De tranquillitate animi») и посвятил его своему давнему другу, секунд-майору Якову Михайловичу Донцу-Захаржевскому, предводителю харьковского дворянства, происходившему из казацкой старшины Донского и Запорожского Войск. Как показал И. И. Срезневский, в эти годы Сковорода всё более расходился с официальной церковной догматикой. Белгородский протоиерей Иван Трофимович Савченков, находившийся с ним в дружеской переписке, с сожалением отмечал, что философ в старости перестал признавать посты и обряды, называя их «хвостами», которые, по его мнению, следует отсечь.
Последние годы и смерть
В начале 1790-х годов Сковорода некоторое время жил в Знаменском монастыре в Курске, где близко сошёлся с архимандритом Амвросием. В 1791 году он перебрался в село Ивановка и посвятил своему ученику Михаилу Коваленскому последний философский диалог «Потоп Змиин», вероятно созданный ещё в конце 1780-х годов. В этот период Сковорода систематизировал и подготовил к передаче все рукописи своих трудов, желая, чтобы они перешли в надёжные руки до его смерти. В 1792 году философ жил в селе Гусинка под Купянском, продолжая тот же образ жизни странствующего наставника, но уже с очевидной ориентацией на подведение итогов. Концентрация вокруг рукописного наследия становилась ключевой задачей его последних лет.
В 1793 году, будучи уже в преклонном возрасте, Сковорода решил лично передать все свои рукописи Михаилу Коваленскому, который к тому времени жил в Орловской губернии. Философ, по свидетельствам, не любил сырой и промозглый климат, опасаясь, что тяжёлая дорога может привести к смерти вдали от привычных слободских мест. Исследователь Лощиц выдвинул предположение, что внутренне Сковорода стремился повторить путь странствующего паломника Василия Григоровича-Барского, чьи долгие путешествия завершились возвращением в Киев и смертью в родном городе. Будучи студентом, Сковорода присутствовал на похоронах Барского, и образ этого паломника мог повлиять на его собственный выбор страннического существования. Несмотря на слабость и возраст, он всё же отправился в путь и в августе 1794 года добрался до Хотетова, где остановился в имении Михаила Коваленского и передал ему собранные рукописи.
После прощания с любимым учеником Сковорода направился обратно на юг. Он умер 29 октября (9 ноября) 1794 года в селе Ивановка Харьковской губернии, в доме дворянина и коллежского советника Андрея Ивановича Ковалевского, отчима Василия Каразина, находясь в пути — по одной версии, к Киеву. Сам Коваленский передавал иное объяснение: философ якобы не собирался возвращаться в Малороссию, а сознательно хотел завершить жизнь в Слободском крае, что и произошло. Незадолго до смерти в Ивановке был написан последний прижизненный портрет Сковороды харьковским художником Г. Лукьяновым; оригинал его утрачен, но известна копия из собрания В. С. Александрова. На основе этого портрета или одной из его копий гравёр П. А. Мещеряков создал гравюру, а позднее в Петербурге В. В. Матэ выполнил по тому же образцу ксилографию, ставшую одним из наиболее узнаваемых посмертных изображений философа.
После смерти Андрея Ковалевского имение Ивановка приобрёл промышленник и меценат Кузьма Никифорович Кузин. По свидетельству В. Н. Каразина, Кузин намеревался установить над могилой Сковороды памятник, достойный его философского значения. В устной традиции закрепился рассказ о том, что, почувствовав близость смерти, Сковорода омылся, надел чистую одежду, лёг и спокойно умер. На надгробии он завещал начертать слова: «Мир ловил меня, но не поймал», которые стали краткой формулой его отношения к славе, богатству и внешнему успеху. Писатель Г. П. Данилевский с сожалением отмечал, что памятник в Ивановке, если он был сооружён на землях Кузина, до наших дней не дошёл, и память о месте погребения философа сохраняется главным образом в текстах и преданиях.